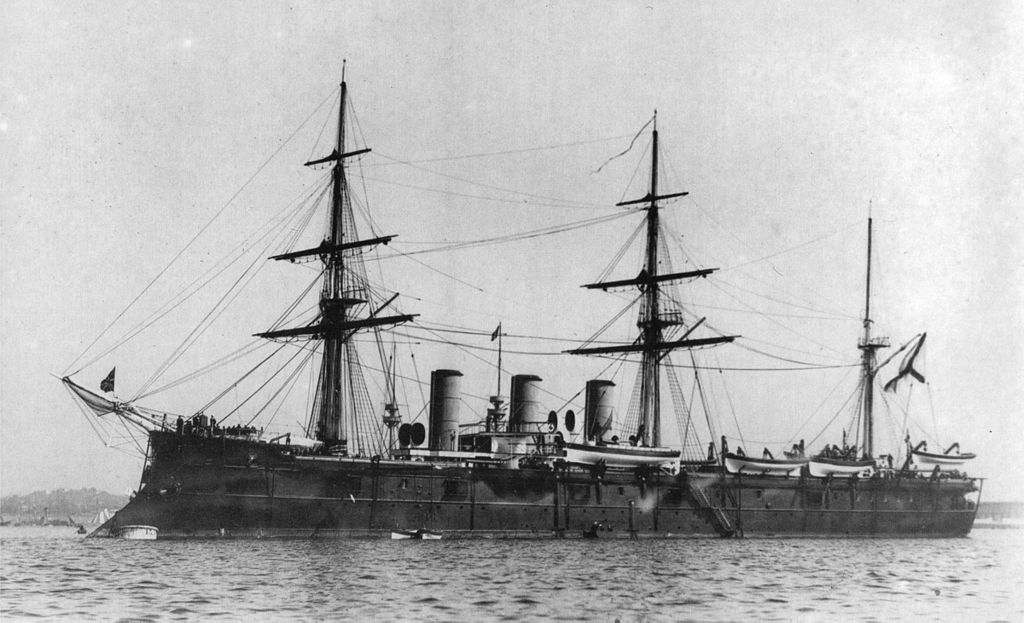Въ Парижѣ, и не только въ Парижѣ, замѣтно въ послѣднее время оживленіе разнородныхъ литературныхъ образованій: «Встрѣчи» (русско-французскія писательскія собранія), «Зеленая Лампа», «Кочевье», «Союзъ молодыхъ поэтовъ», выходъ въ свѣтъ журнала «Числа», наконецъ, сборникъ объединенія поэтовъ «Перекрестокъ».
Если все это не мертвая зыбь, не волненіе тѣхъ же застоявшихся водъ у тѣхъ же старыхъ бережковъ, то, по-видимому, и особенно съ 1930-го «романтическаго» года, въ эмиграціи началось нѣкoe новое движеніе къ искусству.
Мнѣ довелось въ свое время быть на докладѣ Г. Раевскаго въ «Союзѣ молодыхъ поэтовъ», а позже читать въ «Возрожденіи» его статью на тему «Конецъ ли искусству». Выводы Раевскаго: можетъ настать конецъ тѣхъ или иныхъ людей и эпохъ въ искусствѣ, но само искуссгво неизсякаемо, безконечно, какъ бытіе. Искусство — самобытіе, эманація вѣчности (вѣчнаго ли «творца», или «художника», или «архитектора вселенной»), которую и пытаются всегда отгадать и познать человѣческіе художники.
Въ той прокуренной маленькой залѣ, на томъ маленькомъ собраніи, гдѣ читалъ Раевскій, еще примѣчательнѣе темы бесѣды былъ ихъ тонъ, тонъ жаждущей искренности, причемъ центромъ всѣхъ мыслей, ихъ горящей точкой, было искусство: черезъ пониманіе и чувствованіе искусства, ошибочны они или не ошибочны, всѣ говорившіе и смотрятъ на бѣлый свѣтъ.
Уже одно это, по-моему, знаменательно. Въ такомъ пониманіи міра и себя въ мірѣ черезъ искусство, вѣрнѣе въ такомъ ощущеніи, есть свое новое свѣченіе. Не съ него ли и начинается вступленіе въ наши «тридцатые годы», въ новую нашу эпоху?
Конечно, кличка «союзъ молодыхъ поэтовъ» врядъ ли литературна, хотя бы уже потому, что ни стараго, ни молодого искусства нѣтъ, а оно всегда или настоящее, или ненастоящее… Вѣдь настоящее искусство — самобытіе — не имѣетъ возраста, въ этомъ смыслѣ оно не знаетъ сроковъ, оно побѣждаетъ время, оно какъ бы пребываеть всегда въ магическомъ непрерывномъ кругѣ, независимомъ отъ временной и прерывной, смѣняемой матеріи. И этотъ магическій міръ искусства всегда сосуществуетъ съ міромъ реальнымъ, пронизываетъ его, больше того, ирреальное слово создаетъ реальный міръ и вѣдь въ началѣ всего «бѣ слово»…
Еще въ «союзѣ молодыхъ» есть одно, что жестоко угрожаетъ всѣмъ такимъ образованіямъ и объединеніямъ литературной молодежи: угроза «коллективизаціи» ощущеній и пониманій, такъ сказать «литературный колхозъ», въ которомъ можетъ быть до конца обезсилена и стерта индивидуальность. Охлаждающія разсужденія объ искусствѣ, нѣкій, такъ сказать, литературный талмудизмъ, очень часто становятся въ такихъ объединеніяхъ между молодымъ литераторомъ и міромъ, имъ постигаемымъ. И этотъ талмудизмъ убиваетъ нерѣдко живое, свое міропостиженіе и міроощущеніе.
Многіе, очень многіе въ изсушающихъ разсужденіяхъ, въ безплодномъ и мертворожденномъ всезнайствѣ, всепониманіи и всеразрѣшеніи и увязаютъ навѣкъ, такъ и не коснувшись живой жизни своими собственными перстами, своимъ видѣніемъ и слышаніемъ ея.
А между тѣмъ свое видѣніе и слышаніе, каково бы оно ни было съ точки зрѣнія тѣхъ или иныхъ признанныхъ или судящихъ школъ и направлений, и есть единственно-важное въ искусствѣ. Въ немь единственно важное — самобытіе художника. Школы, направленія и всяческіе «измы», какъ бы они ни были умны и значительны, все же только толкованія, все же только, такъ сказать, курсы анатоміи искусства, никогда не улавливающіе его духовнаго существа, его живого дуновенія. Только каждый самъ по себѣ или коснется, или не коснется живого дуновенія, но всегда — самъ. Искусство, вѣроятно, и есть — степени силы въ постиженіи бытія. Другихъ путей въ немъ нѣтъ.
Въ первой книгѣ «Чиселъ» есть начало статьи г. Адамовича «Комментаріи», о которой немало говорили въ парижскихъ литературныхъ кругахъ.
«Убьетъ литературу», пишетъ г. Адамовичъ, «ощущеніе никчемности. Будто снимаешь листикъ за листикомъ: это неважно и то неважно (или нелѣпо въ случаѣ ироніи), это — пустяки, и то — всего лишь мишура, листикъ за листикомъ, безжалостно, въ предчувствіи самаго вѣрнаго, самаго нужнаго, а его нѣтъ».
Сентенція Адамовича, мнѣ кажется, можетъ быть недурнымъ примѣромъ подмѣны пути искусства, о чемъ я только что сказалъ. Въ сентенціи все умно, но и все невѣрно, и вотъ почему: если есть хотя бы одинъ только листикъ (конечно, не бумаги для литературныхъ или критическихъ упражненій), а одинъ подлинно-угаданный и подлинно-найденный живой листикъ, ни одинъ художникъ и никакъ не можетъ сказать, что «это неважно, это пустяки». Именно этотъ листикъ, создаваемый изъ ирреальности и превращаемый въ магическую реальность, и есть въ искусствѣ «самое вѣрное», «самое нужное»: все. Въ томъ то и дѣло, что прежде чѣмъ «снимать листикъ за листикомъ», необходимо умѣть создать первый-то листикъ, повелительную реальность, съ которой художникъ, дѣйствительно, уже воленъ поступать по своему благоразсужденію. Но прежде всего — «листикъ».
У Адамовича полное пренебреженіе къ единственно-важному въ искусстве, къ его основному таинству: «листики» для него — данное и онъ это «данное» съ аппетитомъ уничтожаетъ, а между тѣмъ «листики» никогда не данное, а всегда искомое, и только немногими, единственными, изрѣдка, въ теченіе вѣковъ находимое. «Листики» и есть — созданное самобытіе.
Адамовичъ опустошаетъ тамъ, гдѣ не сѣялъ, и «ощущеніе никчемности» — очень кислое ощущеніе не литературы, а самого Адамовича, поѣдающаго безжалостно имъ же воображаемые листики («всего лишь мишуру»), и притомъ съ «пустяковыми» разсужденіями.
Вотъ и еще одинъ примѣръ подмѣны: Пушкину по Адамовичу было «навязано», для Пушкина было «наноснымъ» и «по существу ненавистнымъ» его, разумѣется, «барабанное»: «Люблю тебя, Петра творенье».
Доказательства? Доказательствъ никакихъ, но такой удивляющій Пушкинъ нуженъ Адамовичу для того, чтобы начать разсуждать въ «Комментаріяхъ» о нашей литературѣ, какъ о литературѣ, якобы жаждущей «возврашенія» въ пустоту, въ небытіе, въ ничто. Любой актеръ вамъ скажетъ, что при желаніи, можно трагедію «разыграть» фарсомъ и фарсъ унылой трагедіей. Такъ и Пушкина «разыгрываетъ» п-своему Адамовичъ, но при этомъ съ очень явными отсебятинами. «Пушкина точилъ червь простоты», увѣряетъ Адамовичъ. А простота, по Адамовичу, «есть ноль, небытіе». Тутъ уже явная подмѣна понятій: простота не абсолютная, а относительная категорія, это критерий мѣры наполненнаго, цѣлаго, это не пустота, а, наоборотъ, мѣра сложнаго. И простота Пушкина была мѣрой отыскиванія единственно-важнаго въ неважномъ, художественнаго бытія среди небытія, самаго нужнаго и вѣрнаго среди «пустяковъ» и «мишуры» (эти выраженія изъ сентенціи Адамовича) — простота Пушкина была сложнѣйшимъ путемъ, сложнѣйшихъ наполненій къ созданію того самаго «листика», который такъ пренебрежительно поѣдается теперь Адамовичемъ.
У В. Вейдле (прочитавшаго недавно интересный докладъ на вечерѣ «Перекрестка»), есть хорошее опредѣленіе простоты: «простота въ сущности требованіе абсолютное. Оно въ сущности говоритъ только: познай самого себя, будь самимъ собою. А значить, оставь все чужое, не рядись въ чужія одежды, будь нагъ».
Абсолютъ правды — основа искусства. Нѣтъ сложнѣй путей, чѣмъ пути отысканія такой правды. Эта правда не есть «правда жизни», правда совѣстей, правды религій, а есть это ирреальная правда ирреального магическаго міра, сосуществующаго нашему и слышимаго художникомъ.
Такъ, Чичиковъ, напримѣръ, существуетъ только потому, что онъ весь самъ по себѣ правда и не возникаетъ никакихъ сомнѣній въ его истинности. Такъ и Донъ Кихотъ.
Но вѣдь ни тотъ, ни другой, какъ и восемь тактовъ Бетховенской симфоніи, о которыхъ писалъ Раевскій, не сушествовали, не были въ реальности. Они стали быть, потому что стали абсолютной правдой. Абсолютъ правды искусства и есть абсолютъ красоты.
«Сомнѣнности», «ощущенія никчемности» — все это внѣ искусства: само искусство — несомнѣнная ирреальность, но художникъ никогда не усомнится въ возможностяхъ путями творческой магіи претворять это ирреальное самобытіе въ наше самобытіе.
У Вейдле абсолють правды опредѣленъ и какъ абсолютъ самопознанія, какъ высшій духовный критерій: «оставь все чуждое, будь самимъ собою».
О томъ же писалъ выше и я: въ искусствѣ единственно-важно самобытіе художника. Онъ долженъ прежде всего (и это самое трудное) стать микрокосмосомъ магическаго міра самобытія, онъ самъ долженъ стать самобытіемъ, оставить все чужое, кромѣ своего, если оно есть, «быть самимъ собою».
Сборникъ «Перекрестокъ» потому и привлекаетъ вниманіе, что онъ не рядится въ «чужія одежды», хочетъ быть самимъ собою.
Конечно, въ «непреодоленности матеріала» и въ фактурѣ Голенищевъ-Кутузовъ, Смоленскій, Шахъ, Манделыштамъ, Раевскій, Дураковъ, — весь «Перекрестокъ» (какъ опредѣлилъ его С. Маковскій — тоже на одномъ изъ вечеровъ «Перекрестка») «не звучитъ вновь найденнымъ звукомъ». — «Я не буду настаивать на прямомъ вліяніи Блока, Ахматовой, Бѣлаго и позднѣйшихъ продолжателей традиціи подавленности», указалъ Маковскій.
Действительно, подавленность, безсиліе и отчаяніе — первое, что останавливаетъ вниманіе въ «Перекресткѣ».
Всѣ — молодые всѣ — едва начали, но точно подернуты всѣ унылой пылью, нѣкіимъ окостенѣніемъ и почти всѣ чувствуютъ жизнь и міръ, какъ пыльную мертвечину, какъ безжалостный хладъ и безсмысленную пустоту… «Мы безсильны… Нѣтъ ничего — ни зла, ни блага» (Смоленскій), «Любви не будетъ никогда… Ледяная тоска» (Штильманъ), «Любовь давно уже мертва» (Шахъ). «И мы отъ одиночества умремъ и намъ скучна земля и полдень блѣденъ» (Мандельштамъ), «Ничего не надо, никого не жаль» (Голенищевъ-Кутузовъ).
Такая блѣдная немочь и преждевременная старость — только ли вліянія русскихъ поэтическихъ «традицій подавленности», только ли, такъ сказать, снобирующее и академическое подражательство поэтикѣ нашего символизма кануна катастрофы съ его, по выраженію С. Маковскаго, «безволіемъ, самолюбующимся страдальчествомъ и метафизическимъ отчаяніемъ»?
Нѣтъ, кажется, такое видѣніе міра и жизни, и себя въ мірѣ, молодые поэты эмиграціи вынесли не изъ школъ, не изъ подражательства другъ другу и «старикамъ», а отъ самаго зрѣлища міра, какимъ ему суждено было открыться ихъ глазамъ. Міръ, дѣйствительно, открылся имъ въ безжалостномъ хладѣ, въ безлюбовности, со стертымъ добромъ и зломъ, — въ блѣдной немочи смерти, обреченія: все это ихъ, свое, а не чужое.
Безжалостная суровость правды, безстрашіе передъ послѣднимъ отчаяніемъ и передъ послѣдней тоской, вотъ съ чѣмъ выходятъ поэты «Перекрестка». Они начинаютъ съ того, въ чемъ бился и на чемъ кончился весь нашъ зловѣщій предкатастрофный символизмъ.
Стало быть, они уже за его чертой, но черезъ его истребительную «поэтическую некрофилію» (выраженіе С. Maковскаго) они входятъ въ жизнь.
«Новое стучится въ двери». Мнѣ кажется, что этотъ «стукъ» различимъ уже въ иныхъ стихахъ «Перекрестка».
Прислушайтесь:
Тоскѣ тщедушной болѣе внимать.
Я не хочу.
Ни воплямъ изступленнымъ
Отчаянія.
Ни блѣдному похмелію
Сомнѣнія.
Довольно. Претворилась.
(Голенищевъ-Кутузовъ.)
И холодомъ на холодъ отвѣчая
Ты крѣпнешь, о, душа!
(Раевскій.)
Не боюсь далекихъ скитаній
Чудодѣйственной волей спасенъ….
(Дураковъ.)
Прислушайтесь, это голоса тѣхъ же, кто какъ будто еще боленъ «поэтической некрофиліей». Да не дѣтская ли это только болѣзнь?
Какъ будто дуновеніе новое, сильное, небывало—сильное, есть въ словахъ молодыхъ, въ ихъ едва зазвучавшихъ голосахъ…
Еще не спасены мы чудодѣйственной волей, но не ею ли только спасемся, еще не претворились въ таинствѣ и чудѣ претворенія, но не въ немъ ли окрѣпнутъ наши души — тотъ ирреальный, въ насъ самобытійствующій міръ, отъ котораго только и быть преображенію міра реальнаго, — всѣмъ явному чуду?
«Случается въ исторіи литературы, что какое-то новое міроввозрѣніе или что-то еще неуловимое, но уже чувствуемое, сближаетъ группу людей, объясняетъ имъ какъ-то иначе, нежели ихъ предшественникамъ, писательское призвание».
Такъ открываютъ себя «Числа».
Нѣчто еще неуловимое, дѣйствительно, чувствуется. И я думаю, что это неуловимое и на собрани «молодыхъ», и въ «Перекресткѣ» и въ «Числахъ»: это искренняя жажда понять міръ и себя въ мірѣ черезъ искусство, это возвращеніе къ искусству, какъ къ единственно-важному въ бытіи, всѣ его относительныя «реальности» преображающему.
Магическій міръ искусства неопровержимо сосуществуетъ человѣческому міру во всѣ его времена. Не искусство ли создаетъ эпохи духа, образы народовъ, нестираемые знаки? Понятно, напримѣръ, что наше поколѣніе катастрофы вовсе не похоже на «восьмидесятниковъ», какъ Россія Пушкина отлична отъ Россіи Чехова.
Не искусству ли быть той магіей, той «чудодѣйственной волей», тѣмъ чудомъ, которое преобразитъ русскія души и отъ нихъ — Россію?
Но чудо никогда не бываетъ внезапностью, не приходитъ откуда-то и какъ-то, его надо подготовлять, его надо умѣть вызвать. И, можетъ быть, когда мы всѣ станемъ учиться и научимся читать первые магическіе знаки, овладѣемъ ключемъ Фауста и будемъ умѣть владѣть имъ, тогда-то и приблизятся новыя времена преображения и озаренія; новая эпоха.
Иванъ Лукашъ.
Возрожденіе, №1906, 21 августа 1930.
Views: 30