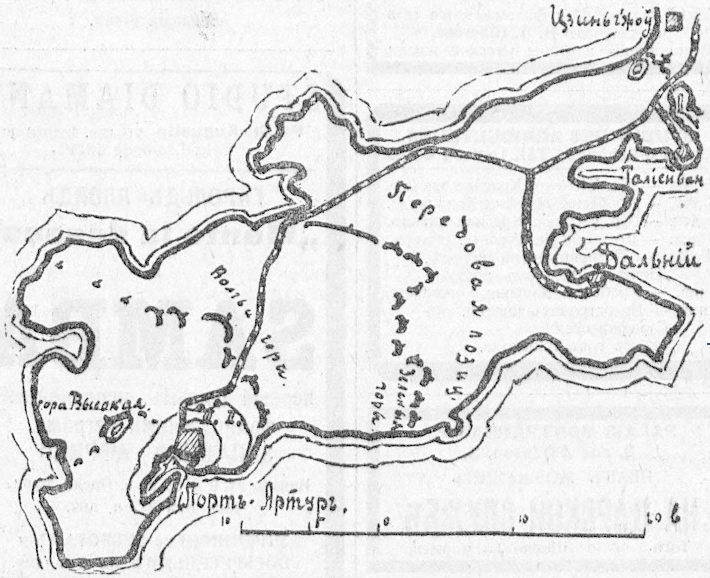Труднѣе всего говорить о томъ, что всего ближе насъ касается. Какъ въ жизни легче найти слова для переживаній поверхностныхъ и случайныхъ, чѣмъ для тѣхъ, что образуютъ стержень нашей судьбы и средоточіе нашей личности, такъ, говоря объ искусствѣ, гораздо легче высказаться о томъ, что намъ только понравилось, что всего-навсего пришлось по вкусу, чѣмъ о томь, что срослось или предназначено срастись съ нашимъ существомъ и воплотить вь себя наши собственныя души. Въ искусство, въ поэзію, если они подлинны, всматриваться, это и значитъ смотрѣть въ себя. Познаніе здѣсь граничитъ съ самопознаньемъ, критика переходитъ въ исповѣдь. Бытъ можетъ, это не всегда бьло такъ; но чѣмъ дальше вростали мы въ девятнадцатый вѣкъ, тѣмъ болѣе поэзія становилась для насъ тѣмъ, чѣмъ она осталась и въ двадцатомъ: совѣстью. Все недоступнѣй и вольнѣй поднималась она надь нами, и все глубже она связывала насъ круговой порукой за себя и за свой всеобщій смыслъ. Не всякая поэзія, конечно, но та, отъ которой отвернуться нельзя, которую нельзя одобрить и на этомъ успокоиться; не стихи, какіе могутъ писать мастера и ученики, главари школъ и составители манифестовъ, а другіе, способные сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ сдѣлались въ свое время для нась стихи Блока, чѣмъ стали или должны были стать съ тѣхъ поръ стихи Ходасевича.
Впрочемъ, быть можетъ, надо еще объяснить кому-нибудь всю серьезность того, что насъ связываетъ съ этимъ поэтомъ и того, что съ нимъ связано для насъ. Быть можетъ, надо еще объяснить, что онъ дѣйствительно нашъ поэтъ, не въ томъ только смыслѣ, что онъ принадлежитъ послѣпушкинской Россіи, послѣгетевской Европѣ, нашей общей непрерванной исторіи, но и въ смыслѣ другомъ, болѣе разительномъ, если и менѣе важномъ, дѣлающемъ его самымь глубокимъ современникомь нашихъ послѣднихъ десяти лѣтъ. Есть основанія предполагать, что это не для всѣхъ ясно.
«Ни грубой славы, ни гоненій
Отъ современниковъ не жду»
сказано въ «Тяжелой Лирѣ». Авторъ ея пользуется большой извѣстностью, большимъ уваженіемъ; въ меньшей степени достигъ онъ любви, всегда слишкомъ разсудительной и не всегда достаточно разумной; пониманія онъ почти не повстрѣчалъ. Для того, чтобы пониманіе поэзіи столь особенной стало вообще возможно, и гоненіямъ и славѣ должно было бы предшествовать нѣкоторое удивленіе. Но Ходасевичу нe удивлялись. Его стихи хвалили за то, что они будто бы похожи на другіе стихи и за то же мнимое сходство ихъ бранили. Андрей Бѣлый, которому принадлежитъ самое значительное изъ написаннаго о Ходасевичѣ до сихъ поръ, находитъ, что «лира поэта согласна съ лирою классиковъ» и привѣтствуетъ въ его книгѣ какъ бы «тетрадку еще неизвѣстныхъ стиховъ Боратынскаго, Тютчева». Другой критикъ, настроенный враждебно, обвиняетъ поэзію Ходасевича въ томъ, что она «нейтрализуется стиховой культурой XIX вѣка». Оцѣнки противорѣчивы, но сужденія едва ли не равнозначущи. Нѣтъ сомнѣнія, что въ основѣ ихъ лежитъ какое-то вѣрное чувство: чувство того совершенно особаго отношенія, въ какомъ находятся стихи Ходасевича ко всему прошлому русскаго стиха. Въ чемъ оно, этого ни враги, ни друзья опредѣлить не сумѣли, но они поняли, какъ понимаемъ и мы, что все своеобразіе поэта изъ этого отношенія вытекаетъ и съ нимъ останется до конца связаннымъ.
Гдѣ же эта опора, эти корни, этотъ національный смыслъ поэзіи Ходасевича и съ чѣмъ въ исторіи русской литературы мы не должны забывать его родства? Связь его съ символистами, если не считать его первыхъ, то есть совсѣмъ еще не его стиховъ, — только бытовая; центральная линія русскаго символизма, если ему и не вполнѣ враждебна, то по крайней мѣрѣ достаточно чужда. Скорѣй было бы возможно установить у него нѣкоторую связь съ поэтами того страннаго безвременья, къ которому принадлежалъ Случевскій и изъ котораго отчасти вышелъ Анненскій. Но связь Ходасевича со Случевскимь главнымъ образомъ (хоть и не исключительно) въ томъ, что Ходасевичъ что-то выразилъ такое, о чемъ Случевскій зналъ, но чего онъ выразить не умѣлъ. Сходство здѣсь не въ результатахъ, а въ намѣреніяхъ, и оно можетъ указывать на родство душъ, но никакъ не на родство искусства. Далѣе, подобно тому какъ изъ отношенія Ходасевича къ символизму уже ясно, что Фетъ и Владиміръ Соловьевъ не могутъ считаться его предками — хотя бы потому, что они предки Блока, — точно такъ же ему чужды и воскрешенный символистами Тютчевъ, съ широкимъ жестомъ его образности и его ритма, съ его знаніемъ о божественности видимаго міра и о блаженной наполненности имъ души. Другое имя называли чаще. Но если никто не приметъ «Тяжелую Лиру» за неизвѣстную тетрадку тютчевскихъ стиховъ, то столь же мало можно ее принять и за новые «Сумерки» Боратынскаго. Не потому только, что мудрость этихъ книгъ различна, и непохожи создавшіе ихъ умы. Было бы вообще праздно сравнивать поэтовъ, не сравнивая ихъ языка, въ которомъ только и осуществляется поэзія и въ которомъ должно быть всего яснѣе различіе талантовъ и умовъ. Бѣлый подчеркнулъ, что Ходасевичъ и Боратынскій оба изображаютъ міръ не красками, — свѣтотѣнью, но онъ проглядѣлъ противуположность въ этомъ сходствѣ, болѣе глубокую, чѣмъ оно само, не замѣтивъ, что Боратынскій поступаетъ такъ, потому что воспринимаетъ міръ умозрительно, отвлеченно, Ходасевичъ — потому что видитъ его конкретнымъ, но буднично безкрасочнымъ. Въ томъ же направленіи излюбленные обоими поэтами отрицательные эпитеты (слова, начинающіеся съ не-, без-, полу-) имѣютъ у нихъ, чего не отмѣтилъ Бѣлый, совершенно разный смыслъ, у Боратынскаго метафизическій, у Ходасевича эмоціональный. Чисто духовная (не душевная) взволнованность Боратынскаго приводитъ его къ особому тону и темпу, къ особому веденію стиха, разгоняемаго и останавливаемаго вдругъ, падающаго и взлетающаго внезапно, то сравнительно бѣднаго, то перенасыщеннаго ритмомъ и смысломъ, переплескивающагося за свои края. У Ходасевича стихотворная ткань болѣе ровная и болѣе земная; каждый стихъ равно отдѣланъ, равно отточенъ и если одинъ менѣе наполненъ, чѣмъ другой, то это вытекаетъ до конца изъ замысла цѣлаго стихотворенія. Техника эта, одинаково внимательная ко всѣмъ возможностямъ стиха, не столько выдѣляющая изъ нихъ одно, сколько всѣ исчерпывающая по очереди, — не техника Боратынскаго, это техника другого, великаго поэта и у Боратынскаго ее можно найти лишь постольку, поскольку въ немъ еще живетъ этотъ другой поэтъ, лишь до тѣхь поръ, пока въ его стихахь еще сквозитъ не вполнѣ переработанный имъ Пушкинъ.
Наконецъ, зто имя произнесено. И пусть не думаютъ, что его привела сюда всего лишь банальная неизбѣжность. Какъ Ходасевичъ связанъ съ Пушкинымъ, такъ онъ не связанъ ни съ какимъ другимъ русскимъ поэтомъ, и такъ съ Пушкинымъ не связанъ никакой другой русскій поэтъ. Если бы существовала пушкинская традиція, Ходасевичъ былъ бы для насъ ея продолжатель и oбновитель. Но надо запомнить твердо, что никакой пушкинской традиціи въ русской литературѣ не было и нѣтъ. Есть, правда, та общая организація стихотворнаго языка, которую Пушнинъ далъ Россіи и которая сто лѣтъ составляла самоочевидную основу всякаго русскаго стихотворенія. Языкъ этотъ въ послѣдній разъ просіялъ, быть можетъ, и погасъ въ третьей главѣ «Возмездія» Блока, онъ умираетъ въ безславныхъ опытахъ москвичей и живеть особою жизнью въ стихахъ Ходасевича. Но это другой вопросъ. Пушкинскій русскій стихъ такъ же не образуетъ пушкинской традиціи, какъ французская проза, столькимъ обязанная Паскалю, не совпадаетъ съ традиціей Паскаля. Возможность традиціи была какъ будто заложена пушкинской плеядой, но плеяда распалась, традиціи не создавъ, не связавъ съ собою навсегда ни одного великаго поэта. Боратынскій сдѣлался Боратынскимъ съ того времени, какь съ плеядою порвалъ, Тютчевъ и Лермонтовъ никогда къ ней не принадлежали, а русская поэзія послѣ нихъ во всемъ противоположна эстетикѣ и духу пушкинской поэзіи. Только въ послѣдніе годы до войны появилось у насъ новое поэтическое пушкиніанство, стремившееся однако скорѣй вернуться къ нѣкоторому классицизму, находимому также и у Пушкина, чѣмъ къ его поэзіи ради нея самой. Въ томъ, что мы говорили до сихъ поръ, это повѣтріе ничего не измѣняеть. Ходасевичъ среди современниковъ своихъ, какъ и вообще среди русскихъ поэтовъ, остается единственнымь, для кого въ русской поэзіи Пушкинъ — это все.
Союзъ заключенъ въ глубинѣ, но связь очевидна и на поверхности. Поэтъ всматривается въ поэта такъ пристально, такъ неотступно, что цѣлые сгустки чужихъ образовъ, поворотовъ стиха, оборотовъ рѣчи цѣликомъ втягиваются изь одной поэзіи въ другую, невозможную, непредставимую безъ нея. Бѣлый утверждаетъ, что у Ходасевича почти нѣтъ пушкинскихъ реминисценцій. Наоборотъ, настоящія реминисценціи только изъ Пушкина у него и есть. Онѣ встрѣчаются въ стихахь различныхъ годовъ и во всѣ годы ихъ не такь ужъ мало. Вотъ совпаденіе ритма при нѣкоторомъ сходствѣ смысловой окрашенности; Пушкинъ:
«Гремятъ тарелки и приборы»,
Ходасевичъ:
«Глядятъ солдаты и портные».
Вотъ совпаденіе образовъ и словъ; Пушкинъ:
«Иль въ лѣсу подъ ножъ злодѣю
Попадуся въ сторонѣ»,
Ходасевичъ:
«Попасться бы тебѣ злодѣю
Въ пустынной рощѣ вечеркомъ».
Вотъ почти полное тождество выраженій; Пушкинъ:
«Бурной жизнью утомленный»,
Ходасевичъ:
«Грубой жизнью оглушенный».
Не стоитъ продолжить. Дѣло не въ этихъ сознательныхъ или безсознательныхъ заимствованіяхъ. Дѣло вь томъ, что именно Пушкинъ научилъ Ходасевича его тону, языку, стиху. Источникъ его поэзіи не въ Боратынскомъ, онъ въ такихъ стихотвореніяхъ Пушкина, какъ «Вновь я посѣтилъ..», «Румяный критикъ мой.. », «Когда за городомъ задумчивъ я брожу…» Словосочетаніе Ходасевича, сталкиваніе смысловъ у него — пушкинское, въ духѣ такихъ стиховъ какъ
«Наѣздникъ смирнаго Пегаса»
или
«Все душу томную живитъ
Полумучительной отрадой».
Пушкинскіе у него и неизмѣнная отнесенность къ предмету словъ и образовъ, и неколебимая точность смысла, и твердый скелетъ стиха. Пушкинская — его строгая боязнь преувеличеній, его ненависть къ украшенности чувства, къ неоправданной торжественности тона, и Пушкинымъ внушены, хоть и не у Пушкина заимствованы, его блистательныя и скромныя «почти».
«Почти свободная душа»,
«Ни жить, ни пѣть почти не стоитъ».
Всe это не просто — развитіе, продолженіе какого-нибудь одного заложеннаго въ пушкинской поэзіи начала. Ходасевичъ беретъ у Пушкина не то, что другіе взяли или могли у него взять, не отдѣльные мотивы (какъ использованные символизмомъ мотивы «Пира во время чумы») и не стилистическія возможности (какъ неиспользованная еще никѣмъ возможность русскаго цвѣтистаго, шекспировски-узорнаго стиха въ монологѣ «Скупого Рыцаря» или въ «Подражаніи Данту»), онъ беретъ Пушкина всего, цѣликомъ, такимъ, какимъ онъ сложился къ серединѣ тридцатыхъ годовъ, и, ни на минуту не отводя отъ него взгляда, переучивается всему, чему онъ когда-либо учился: взвѣшивать мысли, сочетать слова, слагать стихи. Пушкинъ больше даль Ходасевичу, чѣмъ Спенсеръ и Шекспиръ Китсу, и онъ былъ ему такъ же необходимъ. Языкъ его стиховъ — я не хочу сказать, чтобы онъ какъ сдѣлался, такъ и остался языкомъ Пушкина, — но исходить онъ во всякомъ случаѣ не столько изъ языка кормилицы, Елены Кузиной, о которой говорится въ «Тяжелой Лирѣ», сколько именно изъ пушкинскаго языка.
Но здѣсь-то мы и подходимъ къ самому главному, къ тому, безъ чего стихотворецъ-ученикъ остался бы навсегда ученикомъ и стихотворцемъ. Случилось не такъ. Ходасевичъ нашелъ Пушкина, но тѣмъ самымъ онъ нашелъ себя, то есть нашелъ въ себѣ глубоко непохожаго на Пушкина поэта. Чѣмъ ближе онъ къ Пушкину прильнулъ, тѣмъ отъ него рѣзче оттолкнулся; противуположность зажглась сама собой въ тоть мигъ, когда сходство стало всего полнѣе. Вь «Молодости» вмѣсто Пушкина — Брюсовъ, и на мѣстѣ Ходасевича еще никого нѣтъ. Въ «Счастливомъ Домикѣ» Ходасевичъ очищается постепенно отъ всего, что не Пушкинъ и не онъ самъ. Но только въ «Путемъ Зерна», погрузившись въ Пушкина цѣликомъ, Ходасевичъ становится самимъ собою. Стихотворенія, написанныя бѣлыми стихами, лучшія въ этомъ сборникѣ, почти калькируютъ вначалѣ пушкинскіе бѣлые стихи. Самые совершенныя (и самыя позднія), какъ «Обезьяна», или вошедшая въ «Тяжелую Лиру» «Музыка», зависимы меньше, но еще въ «Домѣ» есть слова, хоть и не сказанныя Сальери, но которыя именно Сальери слѣдовало бы сказать.
«Между воспоминаньемъ и надеждой,
Сей памятью о будущемъ…»
Въ основѣ болѣе раннихъ лежитъ пушкинское «Вновь я посѣтилъ» съ нѣкоторыми прозаизмами и вольностями, къ которымъ однако шелъ и Пушкинъ. Но именно въ этихъ стихотвореніяхъ (и въ современныхъ имъ) впервые со всей полнотой выражено то, что въ Ходасевичѣ чуждо, что въ немъ враждебно Пушкину. «Эпизодъ», первое изъ нихъ, открываетъ важнѣйшую для Ходасевича тему раздвоенія, просвѣчиванія тамъ сквозь здѣсь, второго я, того, что смотритъ со стороны на первое, тему души обходящейся безъ міра и міра не населеннаго душой, тему, которая получитъ наиболѣе законченное выраженіе въ «Тяжелой Лирѣ» и которая для Пушкина была бы не только непріемлема, но, что еще важнѣе, непонятна.
«Вонъ ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крыломъ остроугольнымъ,
Не выпорхнуть туда, за синеву
Ни птичьимъ крылышкомъ, ни сердцемъ подневольнымъ»;
эти отнюдь не традиціонные въ русской лирикѣ стихи враждебны Пушкину и немыслимы у него, потому что, примыкая къ пушкинской поэтикѣ, они отрицаютъ ея внѣпоэтическую основу, а потому мѣняютъ и художественный ея смыслъ. Существованіе пушкинскихъ стиховъ предполагаетъ космосъ, міръ устроенный, прекрасный, нерушимый, тотъ самый міръ, который, какъ бумажную оболочку, подернутую безсмысленной синевой, Ходасевичу нужно прорвать, чтобы стала возможной его поэзія. Да, онъ учился у Пушкина, онъ взялъ у Пушкина все, что могъ у него взять, но воля его не исполнится, поэзія не осуществится, пока ангелы не потушатъ пушкинскаго солнца, пока не померкнетъ пушкинскій земной день
«И съ грохотомъ не распадется
Темно-лазурная тюрьма»,
то есть самое небо Пушкина.
Эта встрѣча, это расхожденіе, магнитъ пушкинскаго стиха и притяженіе собственной вселенной, все это вовсе не вопросы ремесла, не поиски темы или формы. Подлинные поэты не ищутъ темъ и находятъ не тѣ формы, которыхъ отправились искать. Поэзія для насъ — искусство, для нихъ она сама жизнь. Въ «Путемъ Зерна» всѣ стихи, написанные до перелома, говорять объ усталости, болѣзни, смерти. Самый переломъ, описанный въ «Эпизодѣ» и въ «Варіаціи», подобенъ опыту умиранія и воскресенья. И когда я читаю въ «Тяжелой Лирѣ»:
«Это самъ я въ годъ минувшій,
Въ Божьи бездны соскользнувшій,
Пересоздалъ навсегда
Міръ, державшійся года»,
я усматриваю въ этихъ стихахъ самую буквальную запись самаго конкретнаго переживанія. Если поэзія, наконецъ, найдена въ духѣ и во плоти, если стала возможной теперь непревзойденная
цѣлостность «Тяжелой Лиры», то это потому, что человѣкъ переродился и поэтъ переродился съ нимъ, потому что его искусство заново возникло вь тотъ самый мигъ, когда онъ умеръ и воскресъ.
2.
Міръ надвое, и я оттуда. Источникъ «Тяжелой Лиры», ея этосъ, ея эстетика, послѣднее
оправданіе ея — въ этомъ чувствѣ. Оно мѣшаетъ жить, но какъ разъ потому, что оно мѣшаетъ жить, оно дѣлаетъ живой поэзію. Несносенъ міръ, когда музыка его смысла имъ же самимъ заглушена.
«Простой душѣ невыносимъ
Даръ тайнослышанья тяжелый»,
но если бы міръ былъ сносенъ и безъ того, если бы душа не обладала этимъ даромъ, поэзія была бы невозможна и ненужна. Мы сльшимъ это не впервые; мы почти что привыкли къ этому за сто лѣтъ; мы знаемъ, что для поэзіи нужно какъ разъ отсутствіе того, что всего необходимѣе для жизни. Но никогда мы этого такъ не знали, какъ мы отнынѣ будемъ это знать. Никто до Ходасевича раздвоенія не переживалъ такъ послѣдовательно, осязательно, конкретно, — такъ ежедневно, такъ буднично; никто, отрѣшаясь отъ земного, такъ не оставался приверженнымъ землѣ. Поэзія въ «Тяжелой Лирѣ» стремится всегда не вверхъ, а сквозь, не воспаряетъ надъ дѣйствительностью, а внѣдряется въ нее, чтобы ее пронзить и сквозь нее прорваться. Но и тамъ, за нею, она можетъ не найти себя. Поэтъ видитъ правду даже не столько по ту сторону дѣйствительности, сколько мучительно съ ней переплетенной. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ своей книгѣ онъ замѣняетъ чистую внѣположность міра душѣ ихъ перепутанной совмѣстностью. Вотъ почему
«Въ душѣ и въ мірѣ есть пробѣлы
Какъ бы отъ пролитыхъ кислотъ».
Душа разъѣдаетъ міръ, но и міръ разлагаетъ душу. Міръ распадется, но и душа несетъ въ себѣ распадъ. Міръ слѣпъ, но и прозрѣвающая душа такъ и не станетъ до конца зрячей, единственная правда такъ и не явится въ полномъ торжествѣ:
«Не станешъ духомъ. Жди, смотря въ упоръ,
Какь брызжетъ свѣтъ, не застилая ночи».
И потому же, почему все это такъ, почему міръ, какъ цѣлое, для поэзіи непроницаемъ, потому и никакихъ условныхъ ознаменованій намъ не дано, по какимъ бы мы могли сквозь дѣйствительносгь узнать правду. Солнце, небо — не символы ея, даже ночь — только «сѣренькая ночка». Скорѣй ужъ въ самомъ незамѣтномъ, самомъ земномъ мы ее нечаянно почувствуемъ:
«Не чудно ли? Въ запутанномъ и низкомъ
Свой горній ликъ мы нынче обрѣли,
А тамъ, на небѣ, близкомъ, слишкомъ близкомъ,
Все только то, что есть и у земли».
Въ этихъ стихахъ сказано больше, чѣмъ можетъ показаться на первый взглядъ. Они превращаютъ въ единичное переживаніе то, что проявляется повсюду въ «Тяжелой Лирѣ», сливается сь ея темой и составляетъ одну изъ главныхъ чертъ поэзіи Ходасевича вообще: особое, одному ему свойственное, домашнее, комнатное, почти житейское чувство духа.
Чувство это было бы неполнымъ и художественно бездѣйственнымъ, если бы не опредѣлило собою самой формы стиховъ, не претворилось въ плотъ и кровъ поэзіи. Останься тема темой, намѣренье намѣреньемъ, стихи эти были бы безразличными, механически умѣлыми, такими, о какихъ говоритъ Геббель: «Ein gemachtes Gedicht ist auch dasjenige, woran die Empfindung wahr ist, aber nicht die Form». [«Отъ подлинной поэзіи далеко и стихотвореніе, въ которомъ истинно чувство, но не форма». — Нѣм.] Но нельзя себѣ представить ничего болѣе отвѣчающаго ихъ замыслу, чѣмъ стихи «Тяжелой Лиры». Ихъ звучаніе, ихъ ритмъ, не превращаясь никогда въ нѣчто самодовлѣющее и довольное собою, только вырисовываютъ контуръ чувства, которое будетъ дорисовано въ совершенствѣ выборомъ образовъ и словъ. Лишь о двухъ-трехъ стихотвореніяхъ, не связанныхъ съ основною темой, можно сказать, что они написаны съ антологическимъ, немного внѣшнимъ мастерствомъ и только въ томъ единственномъ случаѣ (стихи: «Горитъ звѣзда, дрожитъ эѳиръ»), когда тема уже идейно обезличена, смѣщена (въ сторону излюбленнаго символистами «кантіанства»), становится условнымъ и безличнымъ стихъ, пока послѣдняя строфа, образомъ карточнаго домика, выраженіями вродѣ «нелѣпость», «малое дитя», не возвращаетъ его къ поэтикѣ, и къ поэзіи, «Тяжелой Лиры». Зато, чѣмъ глубже тема взята, тѣмъ стихотворное мастерство выразительнѣй и своеобразнѣй: тонъ сосредотачивается, заостряюются повороты ритма, сравненія убійственно попадаютъ въ цѣль:
«Такъ вьется на грядѣ червякъ
Разсѣченъ тяжкою лопатой»,
или — еще ближе къ тому ощущенію духовнаго, о которомъ говорилось выше — только у Ходасевича возможный стихъ:
«Прорѣзываться началъ духъ,
Какъ зубъ изъ-подъ припухшихъ десенъ».
Вкусъ къ прозаизму, сказывающійся здѣсь и приведшій къ тому, что даже Люциферъ или Прометей названъ лишь «первымъ дачникомъ», — не просто артистическое пристрастіе и вообще не дѣло вкуса. Недаромъ именно онъ лежитъ въ основѣ того, что о «сердцѣ, съѣденномъ червями» сказано самое простое и самое страшное, что можно о немъ сказать, и въ основѣ столькихъ другихъ прекраснѣйшихъ стиховъ книги. Прозаизмъ Ходасевича — знаніе, а не пріемъ, онтологія, а не эстетика, или вѣрнѣй искусство его — подлинное искусство, а потому онтологія и эстетика не могутъ быть въ немъ раздѣлены.
Земная духовность «Тяжелой Лиры» есть ея основное опредѣленіе. Это благодаря ей, не только въ самомъ ежедневномъ, уплотненномъ своей привычностью бытіи, открываются невещественные провалы, но и обратно, чистѣйшій духовный опытъ становится какъ бы тривіальнымъ и какъ разъ этой тривіальностью плѣнительнымъ. Самые здѣшніе стихи пишутся о вещахъ нездѣшнихъ; свидѣтельство потусторонней встрѣчи — волосъ забытый на плечѣ:
«И вотъ — среди бесѣды чинной
Я вдругъ съ растеряннымъ лицомъ
Снимаю полосъ, тонкій, длинный,
Забытый на плечѣ моемъ.
Тутъ гость изъ-за стакана чаю
Хитро косится на меня,
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня».
Чаепитіе послѣдней строкой превращено въ музыку и какъ разъ обыкновенность ложечки, бесѣды, гостя дѣлаютъ такими возвышенно-нѣжными удѣленные имъ стихи. Прозаизмъ для Ходасевича — одинъ изъ важнѣйшихъ стимуловъ лирическаго подъема. Пусть всякое стремленіе отдѣлиться отъ земли, даже такое неудержимое, какъ въ «Перешагни, перескочи…», должно окончиться возвращеніемъ на землю, поисками ключей или пенснэ; зато все-таки тѣмъ дальше мы улетимъ, чѣмъ тѣснѣй прижмемся къ землѣ, чѣмъ полнѣе вкусимъ праха. Два одинаково построенныхъ стихотворенія «Тяжелой Лиры» начинаются оба отталкиваньемъ отъ дѣйствительности, описанной въ первыхъ строкахъ:
«Большіе флаги надъ эстрадой,
Сидятъ пожарные, трубя»,
или, въ «Элегіи»:
«Деревья Кронверкскаго сада
Подъ вѣтромъ буйно шелестятъ»;
кончаются оми возвращеніемъ къ той же дѣйствительности, но уже послѣ того, какъ «душа взыграла», какъ поэтъ сказалъ себѣ (съ тѣмъ органическимъ насиліемъ надъ словомъ, которое доступно только властителю надъ нимъ):
«Замри — или умри отсюда,
Въ давно забытое родись»,
а потому и садъ и трубачи являются теперь преображенными — или уничтоженными — поэзіей. Заключительная «Баллада» построена такъ же, и ея еще болѣе мощный лирическій подъемъ сталъ возможенъ только потому, что начинается онъ въ обстановкѣ еще болѣе душной и тѣсной, въ комнатѣ съ ея «штукатурнымъ небомъ» и «солнцемъ въ шестнадцать свѣчей». Когда здѣсь мы слышимъ какъ
«Часы съ металлическимъ шумомъ
Въ жилетномъ карманѣ идутъ»,
то подробность эта, по всему ритмическому и образному контексту, воспринимается не какъ понижающая, а какъ повышающая тонъ; и точно также взлетъ послѣдней строфы не осуществился бы, если бы въ ней не повторялись снова слова о штукатуркѣ и объ электрической лампочкѣ. Вотъ въ этомъ-то неразрывномъ сліяніи духовнаго опыта съ плотью стиха и языка, въ этомъ каждый разъ обновленномъ выраженіи единой темы и есть та вознаградившая за все округлость, цѣлостность, тотъ узелъ, который въ поэзіи Ходасевича разъ навсегда отмѣченъ «Тяжелой Лирой».
Узелъ этотъ былъ ослабленъ, потомъ развязанъ, почти тотчасъ послѣ перваго появленія книги въ свѣтъ. Изъ стихотвореній, написанныхъ позже, лишь два или три могутъ быть къ ней отнесены, какъ «Гляжу на грубыя ремесла», присоединенное къ ней самимъ авторомъ, или вошедшія въ слѣдующую книгу «Вдругъ изъ-за тучъ озолотило…» и, по темѣ приближающееся къ «Жизели», «Хранилище». Другіе, очень немногочисленные, изъ новыхъ стиховъ (напр, «Слѣпой» и отчасти «Интриги биржъ, потуги націй») относятся кь стихамъ «антологическимъ», а потомъ не слишкомъ отличаются отъ такихъ же стиховъ «Тяжелой Лиры» (вродѣ «Лиды» или «Странникъ прошелъ…»). Но въ главномъ «Европейская Ночь» даетъ нѣчто совершенно новое, принадлежитъ тому же поэту, но уже не той поэзіи. Прежде всего поражаетъ перемѣна, произошедшая въ самой техникѣ стиха. Изъ того состоянія законченнаго, хоть и всегда заново создаваемаго равновѣсія, въ которомъ она пребывала въ «Тяжелой Лирѣ», она теперь вышла. Стихъ становится несравненно болѣе судорожнымъ, прерывистымъ; появляются захватывающія духъ ускоренія ритма, нагнетанія прилагательныхъ или глаголовъ, раньше невозможныя:
«Надъ раскаленными песками
И не жива, и не мертва,
Торчитъ колючими пучками
Бѣлесоватая трава».
или
«Вотъ тогда-то и подхватило,
Одурманило, понесло,
Затуманило, закрутило,
Перекинуло, подняло…»
Позже использовано звуковое сходство опредѣленій:
«Какъ любознательный кузнецъ
Надъ просвѣтительной брошюрой»,
что дало, въ связи съ ощущеніемъ ихъ мѣста въ стихѣ и свойства, какъ длинныхъ словъ, такой необычайно выразительный «ходъ», какъ (въ «Звѣздахъ»):
«И подъ двуспальные напѣвы
На полинялый небосводъ
Ведутъ сомнительныя дѣвы
Свой непотребный хороводъ».
Тамъ же, гдѣ нѣтъ надобности въ этихъ взрывахъ и взлетахъ ритма, ихъ замѣняетъ его рѣзкая отрывистость:
«Рабочій лежитъ на постели въ цвѣтахъ
Очки на столѣ, мѣдяки на глазахъ.
Подвязана челюсть, къ ладони ладонь.
Сегодня въ ледь, а завтра въ огонъ».
Не забудемъ, что этотъ ритмическій строй является въ то же время синтаксическимъ, то есть смысловымъ, что въ данномъ случаѣ («Окна во дворъ») онъ распространяется на все стихотвореніе, отрываетъ одна отъ другой его строфы, противуполагаетъ и сталкиваетъ образы, во всемъ отвѣчаетъ замыслу, или, лучше сказать, совпадаетъ съ нимъ.
И такъ же мало, какъ ритмъ «Оконъ во дворъ», внѣшни и выдуманы всѣ вообще новшества «Европейской Ночи». Берлинскіе стихи и большинство стиховь парижскихъ написаны такъ судорожно, такъ по-новому яростно и жестко, такъ «зубы стиснувъ, пальцы сжавъ» потому, что и душевный опытъ, легшій въ основу «Тяжелой Лиры», уступилъ мѣсто другому опыту. Та относительная прозрачность міра, которая была ему сперва присуща, смѣнилась непроницаемою тьмой. Все стало омерзительно вещественнымъ. Или, вѣрнѣй, поэзія сама уже не хочетъ умирать отсюда, а наоборотъ, стремился всею своею силою рушиться, ринуться сюда. Потому-то и нѣтъ для нея словъ достаточно тяжелыхъ, достаточно язвящихъ, чтобы ими какъ можно прочнѣе заклеймить это здѣсь, отъ котораго она не можетъ оторваться. Именно теперь рычитъ Шаляпинъ, слипаются влюбленные, и европейская ночь нисходитъ
«На идіотское количество
Сѣрощетинистыхъ собакъ».
Тема каждаго стихотворенія предопредѣлена возможно большей плотностью этихъ образовъ и словъ. Но бываютъ темы столь сами по себѣ «низкія» и страшныя, что они требуютъ, дабы стать поэтически дѣйственными, другого, болѣе «высокаго» языка. Отсюда въ стихотвореніи «Подъ землей» такія выраженія, какъ «безумецъ», «старикъ сутулый, но высокій», «дикая мечта», «тѣнь Аида». Впрочемъ, сопоставленіе словъ, принадлежащихъ традиціонно поэтическому языку, со словами въ поэзіи новыми и сырыми есть вообще одно изъ средствъ, примѣняемыхъ теперь поэтомъ для передачи всего того безвыходно земного, невыносимо человѣческаго, что заставляетъ сказать:
«Счастливъ, кто падаетъ внизъ головой:
Міръ для нею хоть на мигъ — а иной»
и что останется неразлучнымъ для насъ съ поэзіей «Европейской Ночи».
Есть, однако, въ этой поэзіи нѣчто совсѣмъ другое, иное начало, не столь развитое, можетъ быть, но зато тѣмъ больше заключающее въ себѣ возможностей развитія. Оно родится изъ чувства душевной разъятости, даже распыленности, которому есть предзнаменованіе въ «Тяжелой Лирѣ» (стихи «Автомобиля»:
«Въ душѣ и въ мірѣ есть пробѣлы,
Какъ бы отъ пролитыхъ кислотъ»),
но которое только теперь получаетъ свой настоящій смыслъ:
«И чьи-то имена, и цыфры
Вонзаются въ разъятый мозгъ,
Врываются въ глухіе шифры
Разряды океанскихъ грозъ»,
или, еще яснѣй:
«Иль сонъ, гдѣ, нѣкогда единый —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Какъ грязь разбрызганная шиной
По чуждымъ сферамъ бытія».
Исправленіе послѣдней строки (читавшейся раньше: «По всѣмъ орбитамъ бытія») характерно; стихъ этотъ врядъ ли сталъ прекраснѣй, но онъ несомнѣнно сталъ точнѣй. «Чуждыя сферы» означаютъ какъ разъ то выхожденіе изъ своего въ чужое, которое такъ существенно для «Европейской Ночи» и такъ ново въ поэзіи Ходасевича. Начинается оно съ своеобразнаго измѣненія того, что можно назвать мотивомъ сквозь, т. е. одного изъ главныхъ варіантовъ темы «Тяжелой Лиры». Тамъ самое это слово употреблялось прежде всего въ смыслѣ проникновенія сквозь вещественное къ духовному; только разъ (все въ томъ же «Автомобилѣ») оно значило нѣчто другое: не просвѣчиваніе духа сквозь бытіе, а уже присущую самому бытію полусквозную многопланность:
«И близко возлѣ насъ прохожій
Сквозь эти крылья пробѣжалъ».
Но это только зародышъ. Его углубленное развитіе даетъ «Европейская Ночь» вь стихотвореніи «Берлинское», вь «Балладѣ» о безрукомъ («И ангелы сквозь провода…»), наконецъ глубже и полнѣй всего въ «Соррентинскихъ фотографіяхъ», гдѣ, становясь памятью, видѣніемъ, мотивъ какъ бы возвращается изъ чужого въ свое, изъ міра въ душу:
«Двухъ совмѣстившихся міровъ
Мнѣ полюбился отпечатокъ:
Въ себѣ видѣнья затая,
Такъ протекаетъ жизнь моя».
Однако, переселившись въ чужое — и вскорѣ независимо отъ всякаго совмѣщенія міровъ — поэзія начинаетъ говорить отъ имени или по крайней мѣрѣ во имя, этого чужого, чего въ «Тяжелой Лирѣ» она еще никогда не дѣлала. Стоитъ сравнить «Изъ окна» съ «Окнами во дворъ», чтобы увидѣть, насколько во второмь стихотвореніи міръ воспринимается болѣе выпуклымъ, сгущеннымъ, и уже не только ради его противупоставленія поэзіи и поэту, но и ради него самого и живущихъ въ немъ людей. Берлинскіе «An Mariechen» и отчасти «Подъ землей» — первые результаты такой поэзіи о чужой душѣ, изъ чужой души. Но она особенно выросла и окрѣпла зъ послѣднихъ стихахъ Ходасевича: въ «Соррентинскихъ фотографіяхъ», въ «Джонѣ Боттомѣ» въ «Балладѣ» о безрукомъ, въ «Окнахъ во дворъ», въ «Бѣдныхъ рифмахъ», даже въ «Звѣздахъ», стихотвореніи, котораго никакіе вѣка не вычеркнутъ изъ русской литературы, но читая которое, нельзя отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что изображенную въ немъ дѣйствительность не перевѣситъ къ себѣ и къ Богу обращенный возгласъ послѣднихъ четырехъ строкъ, — таковы ея сверхличная мощь и сверхреальная насыщенность.
Именно въ этихъ особенностяхъ «Европейской Ночи», въ этихъ тяготѣніяхъ послѣднихъ написанныхъ имъ стиховъ, можно усмотрѣть будущее поэзіи Ходасевича. Переселеніе въ чужое не означаетъ забвенія своего, не дѣлаетъ стихотвореніе менѣе лирическимъ, или поэзію болѣе «объективной». Но оно открываетъ замыслы и темы, ранѣе закрытые, и даетъ чувству міра, не мѣняя его по существу, возможности новаго воплощенья. «Тяжелая Лира»» была книгой болѣе законченной, болѣе цѣльной, чѣмъ послѣдовавшая за ней, но будущаго въ ней было меньше и діапазонъ ея былъ менѣе широкъ. Замыкать Ходасевича въ ея предѣлы теперь никому не придетъ въ голову. Новую же его книгу и отмыкать не надо, чтобы возможенъ сталъ выходъ изъ нея; она сама есть путь и выходъ. Какое предстоитъ будущее этой поэзіи — и строго говоря даже, предстоитъ ли ей оно — въ планѣ человѣческомъ этого сказать никто не можетъ, но что оно возможно и внутренне необходимо, что форма его предуказана десятью самыми глубокими стихотвореніями «Европейской Ночи», этого тоже отрицать нельзя.
3.
Искусство живетъ въ прошломъ и въ будущемъ, отъ вчера переходитъ къ завтра; это мы, живущіе съ нимъ, хотимъ удержатъ его въ настоящемъ, прикрѣпить къ сегодняшнему дню. Такое желаніе, вѣроятно, законно; во всякомъ случаѣ оно естественно и неизбѣжно, какъ неизбѣженъ произволъ, къ которому оно ведетъ. Никакое живое отношеніе невозможно къ художнику, выросшему во весь ростъ, безъ того, чтобы мы условно не представили его себѣ величиной установившейся, неизмѣнной. Пустъ мы только современники его — фактически или въ духѣ, — но вѣдъ подлинный судъ о немъ будетъ не «судъ исторіи» (и не судъ съ точки зрѣнія исторіи, все равно, его личной или болѣе общей), а именно нашъ, пристрастный судъ, гдѣ нѣтъ различія между «сторонами» и судьей, и одни лишь родственники судимаго входятъ въ составъ присяжныхъ, Два правила только необходимо соблюдать и намъ: не принимать частей за цѣлое, не смѣшивать намѣреній и результатовъ. Прибавимъ еще: не вѣрить на слово поэту, не довѣрять его разсказамъ о его поэзіи. Въ сужденіяхъ обь искусствѣ, самый опасный видъ ложной объективности — это полагаться на то, что авторъ думаетъ о себѣ и даже на то, чего онъ отъ себя хочетъ. Нѣтъ, поэта нельзя судитъ «по законамъ имъ самимъ надъ собою признаннымъ», — хотя бы потому, что онъ эти законы не столько признаетъ или принимаетъ, сколько ихъ въ своемъ творчествѣ родитъ. Чѣмъ подлиннѣй и глубже поэтъ, тЬмъ больше переростаетъ онъ рамки собственной эстетики и только посредственности дано осуществить все то и только то, ради чего она трудилась. Всѣмъ этимъ не сказано, конечно, что поэты такъ и обречены ничего не понимать въ своей поэзіи. Однако и самые проницательные изъ нихь — къ нимъ принадлежитъ Ходасевичъ — не столько видятъ свою поэзію передъ собою, во всемъ ея объемѣ и глубинѣ, сколько видятъ ее насквозь, то есть видятъ сквозь нее то, къ чему она направлена, то, во имя чего она существуетъ. Изъ трехъ стихотвореній, открывающихъ «Европейскую Ночь» и образующихъ своею рода «Ars poetica», самое значительное третье — то, которое начинается словами:
«Весенній трепетъ не разнѣжитъ
Сурово стиснутыхъ стиховъ»,
и характерно, что въ немъ говорится все время о томъ, что поэтъ полюбилъ, въ чемъ ему легко дышать, что ему мило и или всего дороже:
«И въ этой жизни мнѣ дороже
Всѣхъ гармоническихъ красотъ —
Дрожь, побѣжавшая по кожѣ,
Иль ужаса холодный потъ».
Сказано объ этомъ съ большою силой и такъ, что общая направленность книги, особенно въ первой ея части, показана какъ нельзя яснѣй: но вѣдь это именно направленность стиховъ (и ихъ непосредственно вытекающая изъ нея окраска), цѣль, а цѣлью никогда не исчерпывается и даже не характеризуется до конца никакое произведеніе искусства. Впрочемъ, именно потому, что стихотвореніе это ничего не ограничиваетъ, не исчерпываетъ, никакихъ законовъ надъ собой не ставитъ, противъ него и нечего возразитъ. Два другихъ гораздо болѣе спорны. Одно изъ нихъ, подобно за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ написаннымъ стихамъ о Брентѣ:
«Съ той поры люблю я Брента,
Прозу въ жизни и въ стихахъ»,
говоритъ о прозаизмахъ, смыслъ которыхъ я разъяснялъ, и связываетъ ихъ съ представленіемъ о классическомъ (т. е. для Ходасевича, очевидно, пушкинскомъ) строеніи стиха:
«И каждый стихъ гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привилъ-таки классическую розу
Къ совѣтскому дичку».
Въ четырехъ строчкахъ дана здѣсь очень содержательная поэтика, хотя быть можетъ взаимоотношенія прозы, «вывихнутости», классическаго и смыслъ каждаго изъ этихъ трехъ столь важныхъ для Ходасевича понятій при этомъ немного упрощены. Другіе стихи («Живъ Богъ! Уменъ, а не зауменъ…») доводятъ упрощеніе до конца, противополагая поэзіи умной — поэзію заумную:
«Я — чающій и говорящій.
Заумно, можетъ быть, поетъ
Лишь ангелъ, Богу предстоящій. —
Да Бога не узрѣвшій скотъ
Мычитъ заумно и реветъ».
Противопоставленіе это — еще въ предѣлахь правды, хоть и не безусловной, но заключительный возгласъ:
«О если бъ мой предсмертный стонъ
Облечь въ отчетливую оду!»
содержитъ уже въ себѣ нѣкоторое ея нечаянное искаженіе. По крайней мѣрѣ, ни въ «Европейской Ночи», ни въ «Тяжелой Лирѣ» никакихъ «отчетливыхъ одъ» нѣтъ и назвать такъ входящіе туда стихи значило бы назвать ихъ плохо. Да и правда ли, что поэзія только говоритъ? Не примѣшивается ли въ ней пѣніе къ слову, заумное къ умному, къ человѣческому — то, что не отъ человѣка? Стихи «Тяжелой Лиры»:
«Здѣсь, на горошинѣ земли,
Будь или ангелъ, или демонъ»,
не обращены ли они также и къ ихъ автору? А если такъ, правъ ли Ходасевичъ въ оцѣнкѣ своей поэзіи, въ оцѣнкѣ поэзіи вообще? Во всякомъ случаѣ, правъ онъ или не правъ, о его проницательности, объ острой осознанности его творчества, говоритъ уже то, что всѣ вопросы, невольно поставленнные имъ, ведутъ къ самой сердцевинѣ его искусства. Для того, чтобы приблизиться къ этому искусству, для того, чтобы свершить надъ нимъ нашъ правый и пристрастный судъ, надо только поставить ихъ немного иначе и не непремѣнно рѣшать ихъ исходя изъ того, какъ ихъ рѣшилъ поэтъ.
Что значитъ, прежде всего, эта «вывихнутостъ» стиха и эта «классическая роза»? Мы знаемъ, что стихи Ходасевича, съ тѣхь поръ, какъ онъ сталъ самимъ собою, исходятъ изъ пушкинскихъ стиховъ. Но мы знаемъ также, что стихи эти мѣняются въ сторону все большей выразительности фактуры, что вь формѣ своей они разсѣкаютъ то, что было цѣльнымъ, сообщаютъ безконечность тому, что было законченнымъ. Замкнутому строенію такихь стихотвореній какъ «Все жду кого-нибудь задавитъ…» (не говоря уже о кольцевой композиціи «Элегіи», «Баллады») противустоитъ разорванность «Оконъ во дворъ» или принципіальная открытость, продолжаемость «Соррентинскихъ фотографій». Слова (и образы) не столько согласуются между собой и вытекаютъ одно изъ другого, сколько все больше и больше сталкиваются и враждуютъ въ этихъ новыхъ, «сурово стиснутыхъ» стихахъ. Значитъ ли это, что Пушкинъ сталъ Ходасевичу чуждъ, ненуженъ? Нѣтъ, это значитъ только, что Ходасевичъ взялъ у Пушкина и «привилъ совѣтскому дичку» вовсе не «классическую розу» (она интересовала его, вмѣстѣ съ группой поэтовъ, къ которой онъ тогда принадлежалъ, только въ эпоху, когда писался «Счастливый Домикъ»), а нѣчто другое, болѣе личное, болѣе тайное, что могло, безъ всякаго перелома, развиться и въ «вывихнутость» и въ прозаизмъ. Это была не какая-нибудь частность; онъ взялъ у Пушкина все его отношеніе къ поэтическому языку, какъ къ орудію величайшей точности, строжайшей взвѣшенности смысла. Только онъ примѣнилъ эту точность не къ міру, просвѣтленному поэзіей, а кь другому, страшному, съ поэзіей разобщенному, ни въ чемъ не созвучному ей міру, къ міру, котораго для классицизма нѣтъ, потому что не въ точности, а въ гармоніи сущность классическаго искусства. Послѣднее осмысленіе слова и стиха — вотъ неизмѣнный принципъ его поэтики, принципъ, который не перестанетъ его съ Пушкинымъ связывать, но и не перестанетъ его оть Пушкина отдалять, по мѣрѣ того, какь смыслъ его стиховъ все дальше будетъ отходить оть пушкинскаго смысла и какъ разъ отъ классическаго въ Пушкинѣ. Потому-то въ его творчествѣ усиленіе «вывиха» и прозаизма, какъ и все большее обращеніе въ здѣсь, какъ и та своеобразная стертость красокъ, стушеванность своего въ чужомъ, что такъ характерна для «Джона Боттома» и «Соррентинскихъ фотографій», не знаменуетъ разрыва, а только говоритъ объ углубленіи. Правда, объ углубленіи такомъ, что оно сквозь личность проростаетъ въ исторію и въ ней самой открываетъ новыя перспективы. Стихи «Соррентинскихъ фотографій» принадлежатъ Ходасевичу — автору берлинскихъ стиховъ, автору «Тяжелой Лиры», поэту, отнюдь не забывающему Пушкина,
«А въ нихъ, сквозь нихь и между нихъ»
проглядываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣчто совсѣмъ другое, какая-то подземная работа русской поэзіи въ концѣ девятнадцатаго вѣка, между Полонскимъ и Случевскимъ, — неизвѣстная традиція, еле видимая сегодня, но которая завтра станетъ тѣмъ виднѣй.
Ars poetica объ этомъ не говоритъ. Ars poetica «Европейской Ночи» уже, чѣмъ ея поэзія и самую поэзію стремится сузить, потому что слишкомъ «отчетливо» ее хочетъ оправдать. Стихи Ходасевича всегда правдивы и умны; это онъ о себѣ знаетъ. Но знаетъ ли онъ, что они будутъ не менѣе правдивы, когда имъ будеть позволено сойти съ ума, когда ничто не воспрепятствуетъ больше прямому прорастанію лирическихъ крылъ, неудержимому рыданію? Какъ осуществляется это препятствіе сейчасъ, сказать трудно, но почувствовать какой-то вольный или невольный запретъ можно безъ труда. Есть у Ходасевича стихи, болѣе ирраціонально задуманные и построенные, чѣмь другіе, и всегда, какъ обѣ баллады и «Автомобиль», они принадлежатъ къ лучшимъ его стихамъ. Есть у него два или три стихотворенія на очень личныя темы, мало чѣмь связанныя съ основной темою его книгъ, такіе, что хочется ихъ говорить про себя, закрывъ лицо руками, — и ихъ тоже слѣдуетъ отнести къ лучшему, что имъ написано. Таково нѣжное «Въ засѣданіи» «Тяжелой Лиры»:
«А ужъ если сны приснятся,
То пускай въ нихъ повторятся
Дѣтства давніе года:
Снѣгъ на дворикѣ московскомъ
Иль — въ Петровскомъ-Разумовскомъ
Паръ надъ зеркаломъ пруда».
Таково жестокое «Передъ зеркаломъ»:
«Я, я, я. Что ли дикое слово!
Неужели вонъ тотъ — это я?
Развѣ мама любила такого,
Желто-сѣраго, полусѣдого
И всезнающаго, какъ змѣя?
Развѣ мальчикъ, въ Останкинѣ лѣтомъ
Танцовавшій на дачныхъ балахъ…»
Таково же отчасти и глухое «Изъ дневника». Запретъ ослабленъ. Что-то вдругъ такое сказано, о чемъ еще не сразу извѣстно, хотѣлъ ли это поэтъ сказать или не хотѣлъ, онъ ли это говоритъ или это помимо него, сквозь него, хоть и его голосомъ, говорится. Есгь строки въ другихъ его стихахъ, дающія то же чувство. Кто знаетъ, не это ли — какъ будто внѣ связи съ мастерствомъ и даже независимо отъ личности поэта — и есть сама поэзія? Но тогда является искушеніе пожелать, чтобы только поэзіей поэзія и была, чтобы стихамъ Ходасевича позволено было чаще сходить съ его ума и входить въ ея безуміе. Съ искушеніемъ этимъ, однако, слѣдуетъ бороться. Каждому поэту предуказанъ его путь и внѣ этого пути никакая, ни его, ни вообще поэзія достигнута имъ не будетъ. Вершина «Европейской Ночи» и вершина поэзіи Ходасевича вообще — это, можетъ быть, два мѣста изъ « Соррентинскихъ фотографій», гдѣ лирическое видѣніе и лирическій полетъ достигнуты имъ сквозь все, что онъ въ своемъ искусствѣ скопилъ, и чѣмъ онъ самъ сдѣлалъ его себЬ труднымъ: сквозь дѣйствительность, съ которой не усталъ бороться, сквозь чужую душу, въ которую научился проникать, сквозь требованія ума, который не уступилъ ничего слѣпому и случайному наитію:
«Раскрыта дверь въ полуподвалъ,
И въ сокрушеніи глубокомъ
Четыре прачки, полубокомъ,
Выносятъ изъ сѣней во дворъ
На полотенцахъ гробъ досчатый,
Въ гробу — Савельевъ, полотеръ.
На немъ — потертый, полосатый
Пиджакъ. Икона на груди
Подъ бородою рыжеватой.
«Ну, Ольга, полно. Выходи».
И Ольга, прачка, за перила
Хватаясь крѣпкою рукой,
Выходитъ. И заголосила.
И тронулись подъ женскій вой
Неспѣшно со двора долой…»
Или, еще прекраснѣй, можетъ быть, другіе умиленныя и сладостныя строки, гдѣ поэзія ничего не потеряла оттого, что преломилась слегка въ лучахъ надличнаго созерцанія:
«Но пѣнье ближе и слышнѣе,
Толпа колышется, чернѣя,
А надъ толпою лишь Она,
Кольцомъ огней озарена,
Въ шелкахъ и розахъ утопая,
Съ недвижной благостью въ лицѣ,
Въ недосягаемомъ вѣнцѣ,
Плыветъ, высокая, прямая.
Ладонь къ ладони прижимая,
И держитъ ручкой восковой
Для слезъ платочекъ кружевной.
Но жалкою людскою дрожью
Не дрогнутъ ясныя черты
Не оттого ль къ Ея подножью
Летятъ молитвы и мечты,
Любви кощунственныя розы
И отъ великой полноты —
Сладчайшія людскія слезы?
Къ порогу вышелъ своему
Сѣдой хозяинъ остеріи.
Онъ улыбается Маріи,
Марія! Улыбнись ему!»
Равныхъ этимъ стихамъ русская лоэзія послѣ Блока не создала и должно быть не скоро создастъ. Будемъ рады, что въ нихъ, сквозь нихъ, наша поэзія еще съ нами.
Да, въ Россіи, послѣ Блока, Ходасевичъ нашъ поэтъ. Быть можетъ, это теперь яснѣе, хоть именно потому, что это правда, это такъ трудно объяснить, именно потому, что мы всѣ такъ близки къ нему, намъ трудно его показать другъ другу. Пусть кажется однимъ, что его поэзія — слишкомъ здраваго ума и другимъ, что она черезчуръ земная. Пусть намь самимъ это кажется иногда. Но если съ нами этотъ безкрылый геній, то развѣ не намъ онъ посланъ и не мы его лишили крылъ? Современность, своевременность поэта измѣряется не тѣмъ, какъ много его время заняло мѣста въ его поэзіи. Надо ничего не понимать въ искусствѣ, чтобы хотѣть отъ него прямого отвѣта на «требованія момента» и отклика на то, что въ газетахъ называется исторіей. Искусство не отражаетъ времени, а выражаетъ его, такъ же, какъ всякое другое творчество, только еще нераздѣльнѣе и глубже. То, что оно во времени познаетъ, не имѣетъ никакой связи съ рѣчами парламентаріевъ и подсчетами экономистовъ. Оно ощущаетъ только нѣкоторое глухое, но властное давленіе, знаетъ его качество, его вѣсъ, но такъ же можетъ не походить на это давящее на него время, какъ изваяніе на руку ваятеля. Потому-то въ стихахъ Ходасевича не будемъ искать безпорядка его эпохи, подобно тѣмъ, кто считаетъ революціонными поэтами поэтовъ со взбунтовавшимся словаремъ. Но запомнимъ, что Ходасевичъ, какъ поэтъ, выношенъ войною и рожденъ въ дни революціи. Окончательно сложился онъ между 1918 и 1920 годомъ. Всего десять лѣтъ исполняется теперь со дня его поэтическаго крещенія, но за эти годы то самое, чѣму онъ обязанъ бытіемъ, погубило Блока и заставило молчать другихъ. У этого времени, кромѣ него, не было и нѣтъ поэта. Конечно, стихи о революціи не лучшіе въ «Тяжелой Лирѣ», но вѣдь и дѣло совсѣмъ не въ нихъ. Дѣло въ томъ, что все въ поэзіи Ходасевича: подавленость ея тона, ея голосъ, низкій и глухой, страшная вещественность міра, всегда присутствующаго въ ней и сквозь который она устремлена прорваться, все это вызвано Россіей, Европой послѣдняго вѣка или послѣднихъ лѣтъ, невыносимымъ временемъ, которое она выносила и выноситъ, — и за это одно надо было бы ей воздать хвалу.
Такой, какъ она есть, такой, какъ она создана, такой она и останется для насъ и съ нами. Что родится изъ нея, какъ она будетъ принята послѣ насъ, есть ли въ ней ростки неизвѣстныхъ формъ и залогъ будущаго развитія, этого я не знаю. Думаю даже, что всего этого въ ней нѣтъ. Что подѣлать, поэзія не всеіда — кухня будущей поэзіи, искусство не всегда — каменоломня новаго искусства. Можно найти нѣкоторое удовлетвореніе и въ томъ, что зданіе подлинной поэзіи не сразу растащатъ по камнямъ ея нетерпѣливые потомки. Вокругъ этого зданія теперь еще такъ много пестрыхъ балагановъ и покосившихся лачугъ. Со временемъ все устроится, упростится. Забудутъ многое. Но будутъ помнить, какъ неслыханное чудо, что Россія, въ такую эпоху ея исторіи, имѣла не только чревовѣщателей, фокусниковъ и піонеровъ, не однихъ стихотворцевъ и литераторовъ, но и поэта, въ которомъ она жила и въ которомъ мы жили съ нею.
В. Вейдле.
Современныя Записки, XXXІѴ, 1928.
Views: 34